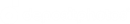|
РАЗРАБОТКИ
|
«Абсолютный наоборот» (Маскарадно-игровое пространство мемуарной прозы Георгия Иванова)
Мемуары Георгия Иванова нельзя назвать мемуарами в прямом смысле этого слова – это, скорее, художественная импровизация на тему исторических лиц и событий, если можно считать историческим событием богемно-литературную жизнь того времени. «Позволю себе отослать интересующихся… читателей, - писал в 1926 г. Г.Адамович, - к «Китайским теням» Георгия Иванова, летописи в целом правдивейшей по тону, по духу, по стилю, несмотря на склонность автора к «Ире фантазии» в отдельных мелочах». Сам же Иванов, по словам Нины Берберовой, определял отношение достоверности и вымысла в них как 25 к 75. Преподавать историю литературы, основываясь на «Китайских тенях» было бы неправильно. Иванов – поэт атмосферы. И для понимания общего литературного процесса, живой ментальности людей, составляющих то время, или одушевления портретной галереи знаменитых и совсем забытых писателей они – бесценный источник, подобных которому больше не существует в нашей литературе. Воспоминания Георгия Иванова – это воспоминания, прежде всего, о людях. Но люди у него не являются, не возвращаются, они стремительно несутся в бесконечно пестром хороводе, который возникает из ничего и в ничто уносятся, не остановленный никаким смыслом. Его воспоминания слишком художественны, так же, как проза его мемуарна. Здесь собран круг особых лиц, завсегдатаев, которых встречаешь и легко разгадываешь, как знакомых: княжна В.Гедрейц, Паллада Богданова-Бельская, В.Шилейко. Настроение мемуаров резко меняется. СТРАШНО: «Александр Иванович», «Магический опыт», «Чекист-пушкинист». СМЕШНО: «Китайские тени». ОДИНОКО: «Фарфор». ОТВРАТИТЕЛЬНО: «Чекист-пушкинист». Нередко появляется ощущение некой мавзолейности: «Магический опыт», «Человек в рединготе», «Анатолий Серебряный», «Александр Иванович», «Мертвая голова». То и дело попадается слово «египетский», являясь, возможно, единственным мемуарным штрихом. Прочее же – из области художественного вымысла. Легко и комично, неотвратимо-гибельно и безнадежно – всё крайние, перекореженные, доведенные до абсурдной яркости, чувства – маскарадные, фарсовые. Но когда фарс переходит в открытую, сюжетную, трагедию, его можно назвать художественной прозой («Любовь бессмертна», «Веселый бал»). Здесь нет уже литературных героев и имен, есть реальный князь М., реальный Гумилев. Острота и точность Иванова происходит от его авторской позиции: он всегда на стороне рассказчика, всегда знаком с теми, о ком пишет. С другой стороны, все его подлецы и жертвы, бездарности и безумные гении, мародеры, скоты, мечтатели, все запутавшиеся и уставшие – все они здесь, в нашем времени, в нашем, уже другом, веке, все они – вовремя вернувшаяся современность. Жанрово мало что изменилось. Мы по-прежнему на карнавале. Иванов – не поэт и не прозаик, с этой точки зрения его произведения никак нельзя классифицировать. Его воспоминания – не мемуарны (то есть, они не открывают правду прошлого), но литературны; это самый центр литературы, самая ее суть, и во многом благодаря уникальной, только им присущей стилистике беспорядка. Нельзя сказать, что воспоминания Иванова объективны и сколько-нибудь историчны. Его взгляд обывательски предвзят, до крайности субъективен, хотя он и претендует на роль наблюдателя – и от этого жаден, правдив и точен. Портреты его подробны и выразительно виртуозны. «А министр этот к тому же был не «обыкновенным» министром, а знаменитостью – «столпом реакции» или «оплотом престола» - в зависимости от точки зрения… В частной жизни – замечу, кстати, - этот громовержец выглядел уютным, добродушным стариком». Иванов с самого начала закрепляет за собой право на собственную, независимую точку зрения. Рисуя портрет, он тут же оговаривается, что у портрета есть еще и изнанка, обратная, скрытая от большинства, но доступная ему, автору, сторона. Он не претендует на видение картины в целом, но часть, им рассмотренная, увидена им до самого ее замысла. Его постоянно обвиняют в тенденциозности, в расшатанности взгляда, в привирании рад эффекта, иногда – во лжи. «Именно таким он был. Ни одного слова о Мандельштаме я не выдумывал – зачем же выдумывать комическое о человеке, который сам, каждым своим движением, каждым шагом «сыпал» вокруг чудаковатость, странность, неправдоподобное, комическое… не хуже какого-нибудь Чаплина, - оставаясь при этом в каждом движении, в каждом шаге «ангелом», ребенком, «поэтом Божьей милостью» в самом чистом и «беспримесном» виде». Воспоминания Иванова карнавальны и одновременно правдивы, а жизнь дает ему столько материала, сколько можно срисовать, не задохнувшись от смены лиц, красок, языков, нарядов. Жизнь, в сущности, дает ему материал, уже отредактированный ею самой – человека в безумии богемы, революции или, что еще интереснее, революционной богемы. Легко было Ильфу и Петрову или Булгакову находить сюжеты и фамилии для своих героев! Псевдонимы и звания гремели тогда повсюду, лезли в уши, по громоздкости не влезали, расчетливо оставаясь в памяти. Например, такая подпись под фотографией: «Иван Васильевич Игнатьев – директор эдиции «Петербургский Гламата», Игорь Северянин, Василиск Гнедов, Константин Олимпов, Граал-Арельский – члены директориата на отдыхе в Ницце». Комедия масок, где роли не расписаны и продиктованы жанром – кокетка, любовник, инженю, - а схвачены второпях – революционер, мистик, налетчик, вамп – схвачены, лихорадочно сыграны, но вот уже поверх первой напяливается следующая маска, какая попалась под руку, и вот человека уже нет под грудой искусственных усов и картонных улыбок. Об этом, собственно, и пишет Иванов. «Был еще «Аргус» с редактором-«американцем» В.Регининым, евшим в редакции какую-то особую кашу от запоя. Было изд-во Каспари, издававшее одновременно «Тайны венценосцев» и изящнейший журнал Философова. Был «Весь мир», где редакторша, баронесса Таубе, принимала, сидя в гробу, окруженная скелетами и чучелами змей. Теперь она в России издает что-то революционное и гордо называет себя «Красной баронессой»…» Дело даже не во взгляде самого Иванова, а в той комической потерянности, бездомности, в которой оказались герои – живые, реальные люди. Это и пугает – их реальность. Хотя они редко позволяют себе не быть актерами. «Хитрая, острая мордочка, смесь наглости и робости, хвастливой самоуверенности и готовности хоть чужие сапоги целовать, лишь бы его приняли, напечатали…» Или: «У Афанасьева грустный, умный взгляд, вежливейшие манеры, совершенно лысый его череп тщательно закрашен… черной китайский тушью». Иногда не верится: были – не были, но одна-другая деталь, подчас серьезная и будничная, как послекарнавальный день, а порой просто трагическая, и убеждаешься – были. «На плечах накидка – ярко-малиновая или ядовито-зеленая. Из-под нее торчат какие-то шелка, кружева, цветы. Переливаются всеми огнями бусы. На ногах позвякивают браслеты. И все это, как облаком, окутано резким, приторным запахом «Астриса». Маски были временным и обязательным к исполнению законом, без которого, казалось, не сбывалась жизнь. Преувеличенно ли звучит: «Футуристическая карьера Бенедикта Лившица не сбылась, потому что он носил котелок и гетры», или так силен был закон сценического переодевания? Без костюмов и декораций спектакль не игрался, а время требовало зрелища, как глотка кислорода. Реализм не мог войти в моду в той исторической ситуации. Стоит вспомнить Мейерхольда, Таирова, Вахтангова, с их колесной символикой, надчеловеческой античностью, костюмностью дель`арте. Стоит вспомнить нечто, что питает Булгакова, Ильфа и Петрова, Эрдмана, нечто театральное и даже клоунское, нечто, не сдержанное реализмом. Маскарад, в данном случае – аксиома. Не случайно последним спектаклем царской России стал именно «Маскарад» в театре Мейерхольда. Но пока до последнего спектакля еще далеко, и: А мы – Леонтьева и Тютчева Калейдоскоп «Бродячей собаки» оказывался для многих центром праздника. «Действительно – сводчатые комнаты «Собаки», заволоченные табачным дымом, становились к утру чуть волшебными, чуть «из Гофмана». На эстраде кто-то читает стихи, его перебивает музыка или рояль. Кто-то ссорится, кто-то объясняется в любви. Пронин в жилетке (пиджак часам к четырем он регулярно снимал) грустно гладит свою любимицу Мушку, лохматую злую собачонку: «Ах, Мушка, Мушка – зачем ты съела своих детей?» Ражий Маяковский обыгрывает кого-то в орлянку. О.А.Судейкина, похожая на куклу, с прелестной, какой-то кукольной механической грацией танцует «полечку» - свой коронный номер. Сам «мэтр Судейкин», скрестив по-наполеоновски руки, с трубкой в зубах мрачно стоит в углу. Его совиное лицо неподвижно и непроницаемо. Может быть, он совершенно трезв, может быть, пьян – решить трудно. Князь С.М.Волконский, не стесняясь временем и местом, с жаром излагает принципы Жака Далькроза. Барон Н.Н.Врангель, то вкидывая в глаз, то роняя (с поразительной ловкостью) свой монокль, явно не слушает птичьей болтовни своей спутницы знаменитой Паллады Богдановой-Бельской, закутанной в какие-то фантастические шелка и перья». И Иванов здесь свой, для всех здесь он «Жорж», - оттого так правдоподобно все, что ему вспоминается. Уродливо правдиво или соблазнительно красиво – дело вкуса. Вся эстетика его мемуаров – он сам, завсегдатай «Бродячей собаки». Остальное слагается из деталей и подробностей, лишенных какой-либо биографичности, из «около», из личностного в противоречии к творческому. В конце концов, все виденное «Жоржем» - это «Китайские тени», то есть, театр. Почему бы театру не поставить исторический фарс? «…эти мелочи достойны внимания, если именно они были тем воздухом, которым дышало целое поколение деятелей русского искусства. Как был живителен тот воздух и как нам теперь его недостает, знает каждый поэт или художник, когда-то им дышавший». Несуразности футуристов – тоже история – разве сама по себе – не фарс? « - …Отец! Отец! Он – среди нас, - захлебывается пьяный Крученых. – Как Христос среди учеников своих… - Он Христос, а ты Иуда, - подает из угла голос Хлебников». Диалоги и метания так же несуразны, как и ежеминутные декларации нового искусства. Комизм и в новом, и в старом, и в их диалоге. «- И ты Дантес! – неожиданно набрасывается Фофанов на сына, свой живой портрет в молодости, сидящий рядом с ним. – Что? Новое искусство? Футуризм? Врешь, пащенок. Нет никакого нового искусства. Есть вечная, благоуханная, - он поднимает торжественно руку, голос его дрожит, слезы навертываются на глаза, - святая поэзия и есть… - Фофанов кричит на весь ресторан трехэтажное непечатное выражение. - Целуй сейчас же… - он тычет в лицо сыну замусоленную открытку с Пушкиным. – Целуй, а то убью! Его собственный портрет… рассудительным голосом говорит: - Отстаньте, папаша. Пушкин ваш пошляк, а вы сами мраморная муха». Диалогическая полифония – по сути, всегда монолог. Старший и младший Фофанов произносят монологи, не рассчитанные на слушателя, единообразные и раздвоенные, то сводимые в одной точке, то раскинутые во времени. Любая личность, представленная Ивановым как вновь входящая, полностью затягивает внимание, захватывает, чтобы потом уступить место следующей, ставшей абсолютно центральной, абсолютно единственной. Одна китайская тень сменяет другую. Маски – те же псевдожизни. По Иванову, ненастоящей жизнью является и невоплощенные идеи, и эпизодичность, и копия. «И в редакционном кабинете, и в квартире все у Андреева было грандиозное, как его писания, как его фигура. Гигантские кресла и шкафы, гигантский письменный стол, гигантские панно на стенах. Эти панно, кстати, были воспроизведены в «Огоньке» с пояснением, что «наш знаменитый писатель в то же время и недурной художник. Печатаемые нами картины его кисти, уступающей, конечно, его гениальному перу, отлично иллюстрируют его литературные замыслы»… Картины были копиями Гойи». Маски часто меняются по жанровым обстоятельствам сыгранной пьесы. Играя в поэта, можно одновременно играть в кого угодно: от византийца до старого большевика. «…Дымя египетской папиросой, благоухая «Тнрленом», будущий страдалец за народ читает стихи. Они посвящены императрице Феодоре. В стихах говорится о том, что он, Пунин, «ласкал бы» Феодору, если бы не века разделяли их бессмертной страсти. Стихи звонкие. В том, что византийская императрица была бы в восторге, элегантный автор не сомневается. Все дело «в веках». …Присядьте, товарищ… Действительно, которые страдали…» Иванов не анализирует происходящее. Но подчеркивает воцарившиеся пошлость и подлость. Чаще – пошлость. Бывает пошлость бытовая. «Есть безвкусие невинное, порой, уютное, порой милое: шелковее будуары, фотографии, «декадентские» вещицы, семь слонов. Пошло, но человечно». Есть пошлость литературная. « - Женщина подошла к окну, - диктовал Кузмин. - Молодая женщина волнующейся походкой подошла к венецианскому окну, - записывал Агашка». И есть декадентская. Иванов – мастер всяческих перечислений, от фактических до предметных, особенно последних. Упоминая, перечисляя, заменяя вещами сюжет, он, по сути, создает сюжетную линию, ничем не уступающую событийной. Стилистика перечислений всегда равна стилистике времени: «Астрис», 1900 год, Бердслей, фиолетовые руки, Монмартр, абсент…» Можно создать параллельный, ивановский, ряд: «китайское, ядовитый, египетский, Верлен, детский, бледность». Предметный ряд подчеркивает калейдоскопность жизни, в которой люди – осколки, фрагменты, части чего-то, уже не существующего. «Пастушки и маркизы, чашки и вазы, попугаи и китайские мандарины лежали на этом полу, как расстрелянные в братской могиле. Снег уже полузамел их, но то там, то здесь еще виднелись то райская голубизна Севра, то пунцовые розы Мейсена, то жеманно протянутая для поцелуя рука, то манерная улыбка, отражающая блаженную праздность, изящное ничегонеделание, раззолоченный сон ума и души…» Бессвязное бормотание времени сливается в навязчивый гул, но гул, понятный и приятный Иванову. В своих поздних воспоминаниях Ивановым часто поминается Пушкин – но в образе потомков, физических или духовных, мнимых и реальных, реальность движется наплывом, в замедленном темпе. Фарфор как форма окаменения тоже несет в себе иллюзию жизни. Пастушки и мандарины – изображение человека, стало быть, речь идет о человеческой жизни. Широко цитируется рецензия Блока на «Горницу» (как пример недальновидности): «Он спрятался сам от себя. Не сам спрятался, а его куда-то спрятала жизнь, и сам он не знает куда… Это – книга человека, зарезанного цивилизацией, зарезанного без крови, что ужаснее для меня всех кровавых зрелищ этого века…» Слишком эмоционально, но в самую точку. Тема «спрятанного» от жизни человека, спрятанного им самим в созданной и приветствуемой им же самим жизнью – центральная тема ивановских воспоминаний. Есть в воспоминаниях Иванова фигуры, о которых не сказано ни одного насмешливого или язвительного слова: Н.Гумилев, О.Мандельштам, А.Ахматова, Н.Врангель. …Зимний день. Петербург. С Гумилевым вдвоем, Это говорит о том, что Ивановым руководит не чувство юмора, насмешка ради насмешки. Иванов – мастер настроения. Он может одним словом добиться от читающего нужного ему состояния и отношения: жалости, страха, отвращения, уважения, восторга. Характерный пример – частые появления на страницах ивановской прозы Николая Гумилева – несомненно, центральной их фигуры. О нем Иванов пишет просто, искренне, не прикрываясь маской, с большой любовью. Правда, в этой любви видна субординация, привычка видеть в Гумилеве Мастера, учителя, старшего. Мандельштама же он любит, как ребенка, и как ребенка оберегает память о нем. Но и их затрагивает общая маскарадность: например, в противопоставлении «Гумилев-Брюсов». « - Вы, мещане, скоты… хлещете пиво. Ну, а дальше что? Я вот пью, но я все вижу. Рыба плывет – вижу. Орла на бутылке вижу и сознаю: Российской империи государственный герб, с нами Бог, распивочно и на вынос. Вы, скоты, хлещете… А я самого Валерия Яковлевича Брюсова вижу. Стоит, голубчик, на том берегу и весь светится». Брюсов, как маска зловещая, четкая, резкая, является или в пьяном бреду Александра Ивановича, или в предсмертной агонии Фофанова – то есть, в обстоятельствах предельных, переходных, неестественных. Адское у Иванова имеет множество обликов-отражений. Это стремление к пороку, убийству; это просто мрачное, леденящее, когтистое – на уровне ощущений; это неизбежная смерть от неизвестной руки. Все слишком стремительно и двулично – или двузорко («мне исковеркал жизнь талант двойного зренья»). История, по мнению Иванова, делается наспех и состоит из эпизодов. И даже революция – «абсолютный наоборот», «зловещая советская фантастика». Реальное в революционное время проявляется забытой картиной прошлого: чай, мягкое кресло, чистота, тепло, покой, безопасность, ровные, нежные разговоры. Против них – шлемы-«спринцовки», «вставай, проклятьем заклейменный», аресты, шелуха от семечек под ногами, но чаще – холод, холод, холод. И – как ни странно – любовь. «Но что такое любовь?.. Кровь и лед? Или водка и клюква?» Часто – грубая, бессмысленная любовь неравных по происхождению людей. Аврора и ее «Васечка», Паллада и Прекрасный Принц, князь М. и Анна Ивановна. Столкновение прекрасного и уродливого, утонченного и животного, в итоге – поэтического и бытового (обывательского). « - Ну, запил я от огорчения. Не помогло. На науки стал бросаться – не помогли и науки. Хотел горло перервать – сподлецовал, страшно. Это меня, представьте, и успокоило. Если так, думаю, отчего бы и не пожить на пробу. И вот двадцать лет живу – ничего, даже потолстел. Стихи пишу, хулиганствую, деньги без отдачи выпрашиваю. Вот каббалу принялся изучать, - ничего, занятная каббала… Не протестуйте! Благородно! Любовь движет солнцем и другими мирами… Сожаление о людях у Иванова чисто эстетическое, литературное. Потому что человеческое представление о себе всегда оказывается мифом. Сострадать же мифу невозможно. « - Пикассо!.. Если только он заметит у вас там краску или интересный мотив – так кончено. Украл. У нас на Монпарнасе все художники его остерегаются. Если он придет, я, как и говорил: «Погодите, господин Пикассо – у меня не прибрано». И пока он ждет за дверью – все холсты переверну к стене. Так ему что! Такой нахал – перевернет обратно и все высмотрит. И если что ему понравится – так это уже не ваш мотив – это его мотив…» Гоголевские, с одесским акцентом, рассуждения случайного начальника продолжают комедию переодеваний. Начальники комичны, бессмысленны, но и всемогущи (в силу, например, своей безграничной фантазии) – если речь идет о «командировке, отправляющей меня в Берлин для… составления репертуара государственных театров». Революция только обострила всеобщую маскарадность. Если раньше жизнь литературной богемы была безумна, то теперь она осмысливалась и оживлялась трагедией – как если бы сломался темп привычно работающее карусели и кто-то сильной рукой закрутил ее по-своему, сломав ритм, смешав лица тех, кто за кругом и тех, кто в круге. Поэтому так беспощаден Иванов к маскарадной, праздно играющей публике. «Человек, которого я принял за местного главного чекиста – такой у него был типичный вид, - оказался ученым-лесоводом. – А это кто? – осведомился я про кривого старика военной выправки, молча и, как мне показалось, жадно евшего. – Не узнаете? Генерал Куропаткин. – Как? Какой? – Тот самый, главнокомандующий. Я с изумлением вгляделся. В самом деле, те же, знакомые по бесчисленным портретам, черты. – Как он-то сюда попал? – Что ж такого, он теперь сельским учителем, ребят учит. Очень уважают его в губернии». Один за другим, исторически устойчивые персонажи теряют все: положение, представление о жизни, былое уважение. «Одна знаменитая переводчица сдала таким образом и получила гонорар за Евангелие от Марка, от Луки, от Матфея. Она собиралась перейти на Апокалипсис, когда случайно кто-то ее поймал». Они теряют, а на их место плюхаются конкуренты, заранее обреченные на победу (и на поражение, как показывает история). Все становятся частями одного закона случайностей. «Ну, хотя бы шедевр товарища Х., над которым он так долго работал. К гладильной доске прикреплен никелированной цепочкой от ключей кирпич. Называется «Ленин в ссылке» Разве Морозовы бы оценили?» Постепенно все учатся лебезить, искренне восхищаться тем, что того не стоит, набивать карманы сластями со стола, носить картузы, голодать, мерзнуть и терять рассудок. Пауза. Застенчивая улыбка. – «Не понимай!» Говорившие по-английски и не скомпрометированные крамольными речами, были представлены Уэллсу и удостоились от него услышать, что Москва - good, и погода - good». В послереволюционных воспоминаниях Иванов все больше становится злым, чего раньше не было. Раньше он был своим. Теперь «своих» становится все меньше: новые своими не стали, старые обновились, Гумилев расстрелян, но еще не пора составлять репертуар государственных театров, отсюда жалость, усталость и злость – можно сказать, маскарад на рассвете. По-прежнему слишком веселы маски, но слишком радостно и бесстыдно они переодеваются. …Как я завидовал вам, обыватели, Теперь он видит и рисует людей зверями, дворцы – конюшнями. Храмы – подвалы, богатство – стыд, сила – произвол, власть – вера, женственность – бесстыдство. Трагедия - в бесконечности этого ряда. Ее все больше, и все тоньше, искусственнее надежда. Теряющий надежду цепляется за любовь и видит в ней пошло рифмованную кровь, цепляется за друзей и находит доносчиков, начинает верить потустороннему больше, чем реальному, теряет рассудок и ничего не находит взамен – ни покоя, ни человечности. И заканчивается все как-то неправильно, сомнительно, «зверино»: « - Поглядеть желаете? – Это можно. Свои люди – это ничего. Вот тут в уголке станьте – все видно будет. А я к вам, товарищ доктор, с просьбой. Больной у меня. Завтра можете заехать? Ну и чудесно – выпьем чаю, закусим – жена рада будет. Под вечер? Заметано. Кто болен, говорите? Да Сенька, кот мой. Прищемил косточку, и все пухнет плечо. Опасаемся мы, чтобы не подох, - такой он чудесный котик. Ветеринар? Был ветеринар и примочку дал, только уж и вы навестите. Ум хорошо, а два лучше».
Читайте также:
Всего комментариев: 0
Последние новости образования
Сергей Кравцов: важнейший приоритет для нас – поддержка учителя В Рособрнадзоре рекомендуют абитуриентам-гуманитариям 2027 года готовиться к ЕГЭ по истории Министерство просвещения выделило 19 основных проблем российской системы образования 
В помощь учителю
Уважаемые коллеги! Опубликуйте свою педагогическую статью или сценарий мероприятия на Учительском портале и получите свидетельство о публикации методического материала в международном СМИ. Для добавления статьи на портал необходимо зарегистрироваться.
|
Конкурсы

Диплом и справка о публикации каждому участнику! 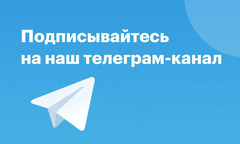
Лучшие статьи
Методы и инструменты автоматического тестирования веб-приложений в современном цикле разработки «Музыкально - ритмические упражнения в парах. Парная пляска «Бульба» Наставничество в образовании: эффективная модель обучения. Духовно – нравственное воспитание и его роль в развитии младших школьников Консультация для воспитателей «Музыкальные способности воспитанников по возрастам» Родителям
Создание комфортных условий для приготовления домашних заданий День памяти воинов-интернационалистов

День памяти воинов-интернационалистов – сценарии и презентации, посвящённые памятной дате |

© 2007 - 2026 Сообщество учителей-предметников "Учительский портал"
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-64383 выдано 31.12.2015 г. Роскомнадзором.
Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны.
Учредитель / главный редактор: Никитенко Е.И.
Сайт является информационным посредником и предоставляет возможность пользователям размещать свои материалы на его страницах.
Публикуя материалы на сайте, пользователи берут на себя всю ответственность за содержание этих материалов и разрешение любых спорных вопросов с третьими лицами.
При этом администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта.
Если вы обнаружили, что на сайте незаконно используются материалы, сообщите администратору через форму обратной связи — материалы будут удалены.
Все материалы, размещенные на сайте, созданы пользователями сайта и представлены исключительно в ознакомительных целях. Использование материалов сайта возможно только с разрешения администрации портала.
Фотографии предоставлены